|
1999
Дамы и господа!
Лет двадцать пять назад, перед
очередным юбилеем Пушкина, был
объявлен конкурс на лучший памятник
поэту. Третье место занял проект
- стоит Пушкин и держит в руках
томик "Малой земли"
Брежнева. Второе место - стоит
Брежнев и держит в руках томик
Пушкина. Первое место - стоит
Брежнев и держит в руках томик
"Малой земли". Что-то
кроме шуток объединяло в то
время скучного Брежнева и великого
Пушкина. Что же это было? Какова
на самом деле высшая форма признания
для гения? Непризнанных талантов
море, но состоявшимся гений
считается, лишь став классиком,
т.е. попав в школьные программы
и став элементарно скучным для
школьников. Английские школяры
не любят Шекспира, испанские
- Сервантеса; хорошо, что и
нашим есть от кого зевать. Почему
так происходит? Это проблема
экзистенциала речи. Речь есть
способ давания знать. Ее можно
использовать для открытия нового,
для еще большего размыкания
бытия, для расширения просвета,
в котором стоит человек. А можно
и просто бессмысленно переливать
из пустого в порожнее, повторяя
избитые трюизмы. Гений - это
как раз человек, размыкающий
новые горизонты бытия. За ним
обычно следуют толпы эпигонов.
Как справедливо заметил экзистенциалист
Норберт Винер, любой талантливый
фильм, имеющий резонанс, мгновенно
вызывает лавину низкопробных
подражаний, разрабатывающих
ту же тему теми же средствами.
Талантливого поэта отличает
свежий взгляд и оригинальные
образы, тогда как графоманы
используют клише, штампы, забитые
сравнения и затасканные рифмы,
т.е. уже многократно использованную
информацию. В этом и суть проблемы.
Едва поэту удается расширить
просвет бытия, как тут же толпы
подражателей замусоливают все
его открытия. Потому и не любят
Шекспира и Пушкина, что они
уже навязли в зубах, их цитаты
носятся в воздухе, они повсюду;
они уже сами стали штампами.
За рифму кровь-любовь надо убивать
на месте; но первый поэт, который
свел эти понятия, был гением.
Вы понимаете, что я хочу сказать?
Открытия Пушкина, оплаченные
страданием и напряжением, давно
стали банальными элементами
занюханной обыденности. Русский
историк Василий Ключевский,
говоря о своем восприятии Пушкина,
особо подчеркивал, что в пору
его ученичества Пушкин еще не
был хрестоматийным классиком.
Но те времена давно минули.
Россия давно уж переварила Пушкина,
во всяком случае весь корпус,
входящий в школьную программу.
Поэтому филологи и любят заниматься
письмами, черновиками и прочими
малоизвестными текстами; но
мы с вами должны рассматривать
именно общеизвестные хрестоматийные
вещи, которые итак всем давно
уже понятны. Потому что мы знаем,
что общепонятность - это не
более чем вульгарное искажение.
Слава - это полное непонимание,
если не хуже, - писал Борхес.
Попробуем понять Пушкина исходя
из того, что он был ребенком,
приучался к горшку, наказывался
за сексуальное любопытство и
т.д. - в общем, мало чем отличался
от всех нас.
"Сказка о царе Салтане…",
о которой мы сегодня будем говорить,
написана Пушкиным в год его
женитьбы, в 1831-м, после бурного
всплеска творческой активности,
известного как Болдинская Осень.
Мы можем предположить, чем была
эта осень для Пушкина. Свадьба
с Наталией Гончаровой, назначенная
на октябрь 1830 года, не смогла
состояться. Карантин запер Пушкина
в Болдино на три месяца. Это
была его предсвадебная горячка,
протекавшая на фоне всеобщей
эпидемии. Иными словами, судьба
не дала Пушкину броситься в
брак очертя голову, но предоставила
ему время и уединение для подготовки
себя к этому шагу. Женитьба
- один из немногих переломных
моментов в жизни человека, меняющих
всю его жизнь - его социальный
статус, его привычки, его мировоззрение.
Во все времена и у всех народов
в такие критические моменты
общество поддерживало человека,
втягивая его в определенные
ритуалы перехода, призванные
оторвать его мысли и привязанности
от старого образа жизни и направить
их к новым целям и объектам.
Но если в обществе социальные
ритуалы не выполняют своей роли,
то необходимые образы продуцируются
бессознательным - в сновиденьях,
в творчестве или в симптомах
психического расстройства. Мы
будем сегодня рассматривать
"Сказку о царе Салтане…"
в основном как реакцию бессознательного
на стресс от необходимости изменить
свою жизнь, как спонтанное выстраивание
обряда перехода по классическому
образцу универсального мономифа.
Кстати, термин "мономиф",
ключевое понятие прикладного
анализа, был взят из "Поминок
по Финнегану" Джеймса Джойса,
автора знаменитого "Улисса".
Интересно, что из того же художественного
произведения было взято и название
"кварк", ставшее фундаментальным
элементом современной ядерной
физики.
На то, что фрустрация, запускающая
бессознательный процесс, связана
именно с предстоящей женитьбой,
указывает и следующее обстоятельство.
Само название "Сказка о
царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне
лебеди" поразительно напоминает
название другой известной Пушкину
сказки из "1001 ночи"
- "Повесть о царе Шахрамане,
сыне его Камар аз-Замане и царевне
Будур". Не зря, видимо,
царевна лебедь, обрызгав князя
водой, сказала: "Будь же,
князь, ты комаром!" Так
вот, этот Камар (аз-Заман) три
года подряд упорно отказывался
жениться, и наконец его отец,
разгневавшись, заточил принца
в старую башню с заброшенным
колодцем. И принц сидел там,
как Пушкин в Болдино, вызывая
сочувствие и понимание мужской
части аудитории: страх перед
женщиной порождает желание отказаться
от перехода. К счастью в разрушенном
колодце жила крылатая джинния,
которая и нашла принцу лучшую
в мире жену, по описаниям удивительно
напоминавшую жену князя Гвидона.
Принц просто пассивно принял
судьбу, выстроенную для него
волшебной помощницей. Более
того, он и по отношению к царевне
вел себя пассивно. Джинния поспорила
с другим джином, кто красивей
- Камар аз-Заман или Будур.
Аргумент был один - кто от кого
больше возбудится. Спящую царевну
перенесли в башню к спящему
принцу, и там их по очереди
будили. Джин обернулся блохой
и укусил Камар аз-Замана за
руку. Принц проснулся и, конечно,
тут же влюбился, но он был сдержан,
так как думал, что девушку привел
его отец, который сейчас наблюдает
за ним. А джинния, обратившись
блохой, коварно ужалила царевну
в то самое место, которое у
женщин склонно к воспламенению.
Будур думала, что это сон, и
ни в чем себе не отказывала.
Это вполне типичная предсвадебная
фантазия - оказаться в пассивной
соблазненной роли, спихнув на
партнера ответственность за
важнейшее решение.
Итак, мы имеем дело с зовом,
с необходимостью перемены жизни,
на которую бессознательное отреагировало
продуцированием фантастической
истории. Мы знаем, что и здесь
возможны вариации - история
может быть детской волшебной
сказкой или общезначимым мифом.
В нашей истории эти линии переплелись
самым причудливым образом. Мягкая
и щадящая пряжа сказки соседствует
в ней с режущей кромкой архаического
мифа, тревожащего грозные бессознательные
силы.
Сюжет волшебной сказки прост
и прозрачен. Полностью зависимый
ребенок, который и править-то
начал "с позволения царицы",
должен стать как отец и занять
место отца, закрепив эту победу
женитьбой на матери. Ситуация
осложняется тем, что в результате
параноидно-шизоидной защиты
образ матери расщепился на два
полюса - реальную мать (царицу)
и идеализированную мать (лебедя),
мгновенно и безотказно выполняющую
все прихоти ребенка. Гвидон,
таким образом, вдобавок к неизбежному
инцестуозному влечению, еще
и оказывается в описанной Фрейдом
ситуации особого выбора, когда
мужчина потентен лишь по отношению
к тем женщинам, которых презирает,
а уважение и любовь делают его
несостоятельным. У нас нет повода
подозревать Пушкина в том, что
в Болдино он практиковал сексуальное
воздержание. Скорее всего, там
он как раз форсировал ситуацию
особого выбора, все дальше разводя
сверхценный и малоценный любовные
объекты. Выпутаться из этой
ситуации Гвидон может только
одним путем - ему необходимо
свести нежность и половое влечение
воедино, соединить их на одном
объекте, т.е. жениться, наконец,
на царевне лебеди. Для этого
мальчик-инфант должен пройти
определенные стадии героического
возмужания, фазы сексуального
развития. Едва родившись, т.е.
выйдя из бочки, князь тут же
приступает к выполнению своего
подвига. Первое его испытание,
соответствующее оральной фазе
- это испытание голодом. Ребенок
овладевает процессом приема
пищи, переводит его из инстинктивной
сферы в сферу волевого регулирования,
что включает в себя и возможность
отказа от еды. Убив коршуна,
князь потерял единственную стрелу,
и идеализированная мать - лебедь
- утешает его:
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе - всё не горе.
Научившись смирять оральные
влечения, князь попадает в сферу
анальных желаний. Его мечтой
становиться обладание белкой-затейницей,
продуктом жизнедеятельности
которой будут изумрудные ядра
и золотые скорлупки. Анальная
символика этого стремления к
золоту вполне очевидна, даже
без подкрепления строчками типа
"кучки равные кладет".
Научившись управлять сфинктером,
князь вдоволь повеселился -
он выстроил для белки хрустальный
дом (так как золото лучше производить
в уединении) и организовал строгий
счет скорлупкам. Все в полном
соответствии с известной нам
триадой анального характера.
Но эти анальные игры естественны
и не страшны, если не фиксироваться
на них чрезмерно, а развиваться
дальше. На следующем этапе инфанта
ждет фаллическая стадия со своим
набором желаний и со своей символикой.
Тут появляется интерес к колющему
и режущему оружию, к военной
атрибутике. Уретальная компонента
формирует честолюбие, желание
прославиться - лучше всего в
качестве властелина непобедимой
армии. Объектом желания становятся
воины, тридцать три богатыря.
То, что речь здесь идет о развитии
ребенка-инфанта, совершенно
очевидно. Ведь для осуществления
своих желаний князю не нужно
совершать не то что подвигов,
но даже минимальных усилий -
достаточно лишь вслух заявить
о своем желании. Достаточно
лишь попросить о чем-то мать
- и можно спокойно ложиться
спать. Подвиг его заключается
именно в отказе от любимой игрушки
и переходе на новый объект.
Что характерно, для истинного
героя мифа нет ничего страшнее,
чем сон; ему бы лучше не спать
вовсе. А в волшебной сказке
часто бывает наоборот - утро
вечера мудренее.
На следующей, генитальной стадии
объектом желания князя становится
прекрасная женщина. Это желание,
как и все предыдущие, должна
выполнить мать, что вполне естественно
для ребенка. Сексуальное развитие
Гвидона должно завершиться инфантильно-фантазийным
образом: мать должна предоставить
ему себя в качестве сексуального
объекта. Эти фантазии также
довольно типичны и описаны еще
Фрейдом.
Итак, женитьба на прекрасной
царевне должна свести воедино
два образа матери - реальный
и идеальный. Но ведь реальная
царица-мать, которую Гвидон
по эдипальной традиции некогда
увел у своего отца - ведь она
никуда не делась! Ей бухается
в ноги князь со словами:
Выбрал
я жену себе,
Дочь послушную тебе.
Слово "дочь" многое
здесь объясняет. Образ царицы
грузится теперь на бабушку.
Это известная эдипальная фантазия
- овладеть матерью, а отца умиротворить
бабушкой - пусть отыгрывает
на ней свою инцестуозность.
После этого трюка Гвидон решается,
наконец, пригласить на свой
остров отца, который до этого
был надежно отстранен от идиллической
жизни сына с матерью. Но видимо
какая-то ревность все же остается
- и в результате царь Салтан
после долгого воздержания так
и не может проявить своих мужских
качеств. Вместо этого он по
русскому обычаю напивается,
и его, как бревно, укладывают
спать. Естественно, одного.
Пушкин подчеркивает здесь пассивную
роль отца - не он ложится, но
его укладывают. Грозный отец,
таким образом, символически
убит, т.е. кастрирован, т.е.
лишен своих креативных способностей.
Царевич же появляется на этом
фоне в роли жениха со всем вытекающим
отсюда набором ассоциаций. Превосходство
над отцом доказано; тут и сказочке
конец. Импотенция Салтана в
результате алкогольной интоксикации
продолжает тему возрастной импотенции
Черномора из "Руслана и
Людмилы"; через три года
эта тема приведет Пушкина к
фигуре уже совсем необратимого
скопца - звездочета, которого
другой герой должен будет убить,
и на сей раз совсем не символически.
В волшебной сказке такого типа,
согласно эдипальному раскладу,
царь Салтан должен быть Антагонистом,
т.е. всячески преследовать сына
и препятствовать его женитьбе.
Мы же видим здесь обратную картину.
Объяснить это противоречие можно
обратившись к сказке братьев
Гримм "Три волоска черта",
где зеркально отражена ситуация
и с бочкой, и с подменным письмом.
Король-Антагонист, отец невесты
предлагает родителям героя взять
их сына на воспитание, а сам
кладет его в ларец и бросает
в реку. Ларец, естественно,
выносит на берег, где его находит
мельник, который и воспитывает
героя. Король, узнав о том,
что герой выжил и вырос, приказывает
ему отвести письмо королеве.
В письме приказ - убить посланца.
Но в лесу героя грабят разбойники,
которые, прочитав письмо и пожалев
юношу, заменяют царскую грамоту.
Теперь в ней приказ - обвенчать
посланца с принцессой. Эта ситуация
кажется более реальной; разумеется,
в бочку князя посадил сам царь,
но в дальнейшем эта часть сюжета
подверглась обращению в свою
противоположность, приему, хорошо
известному нам по работе сновидений.
Еще Отто Ранк в работе "Миф
о рождении героя" писал,
что эдипальная неприязнь мальчика
к отцу в результате проекции
создает фигуру враждебного,
преследующего отца. При этом,
разумеется, подыскивается и
подходящее рациональное обоснование
отцовской враждебности. Царь
Салтан уезжает на войну прямо
из брачной постели, где-то через
месяц или два после свадьбы.
Мы знаем, что царица зачала
сына с первой брачной ночи и
относила его полный срок, девять
месяцев. Но отцовство вообще
вещь сомнительная; а у Салтана,
видимо, были основания подозревать,
что его жена могла зачать и
после его отъезда. Разумеется,
то, что она родила "не
мышонка, не лягушку, а неведому
зверюшку" говорит не о
мутогенных факторах экологической
среды, а о передаче приплоду
наследственных признаков неизвестного
родителя. Это известный сюжет
из "Немецких преданий"
братьев Гримм, где Беатрикс,
супруга короля Фландрии, рожает
семерых мальчиков в отсутствии
мужа. Злая мать короля приказывает
слуге убить детей, а на их место
положить семерых щенков; слуга
бросает принцев на произвол
судьбы. Мать короля рассказывает
вернувшемуся сыну, что знает
даже того пса, с которым Беатрикс
вступила в порочную связь, и
король приговаривает жену к
казни. Таким образом, у Салтана
были все основания сомневаться
в своем отцовстве и казнить
неверную супругу. Этот мотив
встречается в старинных скандинавских
обычаях. Муж, сомневающийся
в своем отцовстве, клал младенца
на щит и опускал в реку. Если
щит приплывал к берегу, ребенок
считался законным; если же младенец
тонул, его мать убивали, т.к.
ее вина считалась доказанной.
Здесь мы вновь видим, как механизм
проекции приписал отцу чувства
и мысли сына. Эдипальная враждебность
сына создала образ злобного
преследующего отца. Одновременно
стремление возвыситься породило
известную фантазию двух семей.
Мысль, ребенка, что его истинная
семья более высокородна, чем
реальная, также проективно передалась
враждебному отцу в форме сомнение
в истинности отцовства. Таким
образом, отец по определению
не может быть добрым и справедливым;
если это так, то он лишь результат
расщепления отцовского образа,
и вторую, темную его половину
следует искать в фигуре преследующего
деда, брата или короля. Очень
часто в сказках Антагонистом
является дед, отец матери героя.
В этом случае мы можем говорить
о том, что произошло расщепление
образа отца, что сказочный отец
героя - это доброжелательный
отец доэдипального мальчика,
а преследующий дед - это отец,
как грозный соперник маленького
Эдипа. В этом варианте сказки
отец героя или умирает непосредственно
до или после рождения сына (обычно
его убивает дед), или вообще
отсутствует (его заменяет бог,
причем часто в каком-то совсем
неосязаемом облике - вроде ветра
или солнечного света). Дед,
услышав пророчество о том, что
сын дочери свергнет его с престола,
прикладывает такие усилия для
обеспечения ее девственности,
что герою нередко приходится
рождаться от непорочной девы.
Но как и в других подобных историях,
несмотря на очень типичные враждебные
действия отца, князю все же
удается выжить и вырасти богатырем.
Фазы сексуального развития Гвидона
отделены друг от друга четкими
границами. На этих фазовых переходах
князь теряет свою самоидентичность,
превращаясь в нечто совершенно
чуждое человеку - в крылатое
насекомое. В этом образе он
посещает дворец отца, где поочередно
жалит в глаз своих теток - ткачиху
и повариху. С Бабарихой же вышло
совсем по иному; и здесь проясняется
вагинальная символика глаза:
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей.
Князь
жалит Бабариху в нос, и на носу
вскакивает волдырь. Так вот
кого приготовил Гвидон для своего
отца! Что ж, нечего было царю-отцу
где-то "далёко биться долго
и жестоко". Если отец отсутствует,
то эдипальной фантазией может
быть: "я победил и устранил
его". А с побежденными
особо не церемонятся. Младенец
Гвидон, как мы помним, вырос
"не по дням, а по часам".
Между свадьбой Салтана и свадьбой
Гвидона не больше одного-двух
лет, но это уже совершенно разные
поколения. Князь сумел осуществить
детскую мечту - мгновенно стать
взрослым и занять место отца.
Теперь молодой еще царь-отец
должен стать дедушкой и удовлетвориться
бабушкой, т.е. бабой Бабарихой.
Это остроумное и бескровное
устранение отца. Также находчиво
решает проблему устранения братьев
и сестер, конкурирующих с ним
за любовь матери, другой эдипальный
пушкинский герой - Балда. Отца-попа
ему все же приходится устранить
физически, хотя тоже не до смерти.
Зато сестру-поповну можно, как
и мать-попадью, взять в жены
- в детской фантазии она уже
"о Балде лишь и печалится".
А младшего брата-попенка, женившись
на матери, можно усыновить -
в фантазиях он уже "зовет
его тятей". Балда - редчайшее
исключение из общего правила,
что герой - всегда младший брат,
а старшие братья - Антагонисты,
которых он должен победить,
замещают для него враждебного
отца. Отто Ранк считал, что
такая замена отца братом отразила
великую победу примитивной культуры
- Отец, прежде столь неравный
соперник, стал гораздо более
сопоставим с героем, у которого,
наконец, появились реальные
шансы на победу. Нам более знаком
мотив опекаемого младшего брата
в варианте сказки для девочек.
Но в древних мифах сиблинговое
соперничество проявляется независимо
от половой принадлежности. Медея,
убегающая с Ясоном и Золотым
руном, пригласила на корабль
своего младшего брата. Когда
флот ее отца стал настигать
Арго, она спокойно посоветовала
Ясону разрубить своего младшего
братика на части и разбросать
их по морю. Тогда отец вынужден
будет собрать все части, а затем
вернуться и похоронить их. Все
так и вышло, и Ясон смог избежать
встречи со страшным мужчиной
кавказкой национальности.
Вернемся к сексуальному развитию
Гвидона. Проблему его фазовых
переходов стоит рассмотреть
подробнее. Как летающее насекомое,
князь вполне мог сам долететь
до дворца своего отца; во всяком
случае обратный путь никогда
не вызывал у него затруднений.
Тем не менее, он забивается
в щель на корабле и добровольно
терпит все тяготы долгого и
скучного морского путешествия.
Это ни что иное, как затворничество,
изоляция - т.е. первый этап
классического ритуала инициации.
Он должен оторвать все помыслы
и привычки совершающего переход
человека от прежней жизни, оставляемой
в прошлом. Как учит нас Кэмпбелл,
смысл обряда перехода в том,
чтобы человек умер для прошлого
и возродился для будущего. Вторым
этапом обряда является отдых
после испытаний первой фазы.
Во время этого отдыха иницианта
в ритуальной форме знакомят
с его новыми патернами поведения,
образа мыслей, самоощущений.
Для Гвидона это ознакомление
дается через подслушивание бабских
сплетен. Привычку подслушивать
женщин он, видимо, унаследовал
от отца; этому он обязан и своим
появлением на свет. Показательно,
что все остальные "гости
умные молчат, с бабой спорить
не хотят". Они уже прошли
эти ступени; им это не интересно.
Но князь буквально загорается
желанием следующей фазы сексуального
развития. Манифестной мотивацией
этого желания является стремление
заслужить одобрение отца, доказать
ему свою ценность.
Таким образом, одна из линий
рассматриваемого текста - сказка
о сексуальном развитии ребенка-инфанта.
Если мы можем трактовать, например,
"Скупого рыцаря",
как арену борьбы анальной эротики
с фаллоуретальной, то в "Сказке
о царе Салтане…" дан самый
масштабный и всеохватывающий
обзор судьбы инфантильных влечений.
Но это еще не миф, а именно
волшебная сказка - по всем известным
нам признакам. Отсутствие предмета
желаний мучает конкретно Гвидона,
но абсолютно некритично для
мира, в котором он живет. Его
достижения, связанные с удовлетворением
желаний - это его личные победы
семейного масштаба, также безразличные
островному народу; они никого
не спасают и не устраняют никаких
угроз. В итоге сказки он побеждает
своих семейных недругов - теток
и бабушку, которые глубоко безразличны
всем, кроме него. Враги, желания,
победы - все очень инфантильно;
сказка и отличается от мифа
масштабом. Сказка - это фантастическая
история о свершениях ребенка.
Мальчика, но не мужа.
Мы знаем, что зов, призыв к
переходу, к смене образа жизни
должен продуцировать у поэта
образы мономифа, соответствующие
архаическим ритуалам. Откуда
же в тексте взялась линия детской
волшебной сказки? Мне кажется,
дело вот в чем. Известно, что
любое жизненное испытание, любая
фрустрация ведет к активизации
той разновидности либидо, которую
мы связываем с инфантильными
фиксациями. Может быть, корректнее
описывать эту ситуацию несколько
иначе. Столкнувшись с какими-либо
трудностями, ставящими перед
выбором, человек ищет решение
в прошлом опыте, "прокручивая"
всю историю своего развития.
При этом нефиксированные фазы
"проскакиваются" практически
незаметно; зато на фиксациях,
которые единственно и бросаются
в глаза, человек "застревает".
Особенно отчетливо "пробегание"
всех фаз сексуального развития
различимо в начале пубертата,
но оно имеет место при любом
испытании, в том числе и при
смене социального статуса. Пушкин,
как мы уже говорили, в Болдино
тщательно прорабатывал свой
переход; т.е. наряду с мономифом
он должен был получить и инфантильный
ряд волшебной сказки. Сказочный
сюжет мы разобрали; перед тем,
как перейти к мифическому ряду,
необходимо сделать небольшое
отступление в общую теорию мифотворчества.
В чем смысл выстраивания и переживания
универсального мономифа? Мы
знаем, что это происходит, когда
человек сталкивается с трудностями,
справиться с которыми он не
может. Изменившаяся ситуация
предъявляет к нему новые требования,
и все его качества, способности,
контролируемые разумом и волей,
оказываются бессильными. От
человека требуется обновление,
трансформация, т.е. приобретение
новых качеств. Найти их он может
только в бессознательном, реализовав
свои неосуществленные потенциальные
возможности. Фрейд описал эту
ситуацию знаменитым лозунгом:
"Где было ОНО, будет Я".
Иными словами, выражаясь языком
Фрейда, должна произойти экспансия
сознания в области, прежде бывшие
бессознательными. У Юнга эта
тема описана гораздо подробнее.
Согласно его теории, классификация
типов личности может осуществляться
с учетом преобладания (доминирования)
той или иной психологической
функции. Схему психики по Юнгу
можно представить двумя парами
противоположных (взаимоподавляющих)
функций, расположенных на двух
ортогональных осях (рис.1).
На оси рациональных функций
(функций суждения) располагаются
мышление и чувства; на оси иррациональных
функций (функций восприятия)
- ощущения и интуиция.
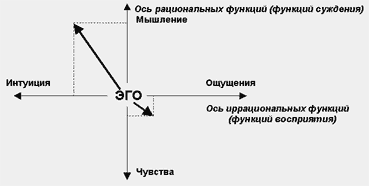
Рисунок 1. Психологические функции.
Таким
образом, состояние психики в
любой момент времени можно обозначить
двумя радиус-векторами в данной
системе координат, причем один
из них будет отображать две
смежные доминирующие функции,
а второй - две подавленные.
Два радиус-вектора необходимы
потому, что хотя система с двумя
осями и напоминает декартову
прямоугольную систему координат,
но в действительности она является
четырехмерной, так как противоположные
функции качественно различны.
Доминирующей функцией называется
наиболее развитая, наиболее
дифференцированная, наиболее
осознаваемая психологическая
функция, на которой основывается
приспособление человека к реальности
и с которой он наиболее склонен
отождествлять себя. Она подавляет
и блокирует подчиненную функцию,
лежащую на другом полюсе соответствующей
оси. Таким образом, если какая-то
функция у человека наиболее
развита (дифференцирована),
то самой неразвитой, бессознательной,
т.е. инфантильно-архаической,
у него будет как раз противоположная,
подчиненная функция. Чувства
всегда мешают мыслям, а мысли
чувствам - это факт, даже не
требующий доказательств. Бегство
от этого конфликта ведет человека
к специализации (дифференцированию
одной из функций), и он начинает
жить (т.е. руководствоваться)
преимущественно чувствами или
мыслями. То же справедливо и
в отношении иррациональных функций.
Второй по развитию стоит смежная
с доминирующей, дополнительная
функция с другой оси. Естественно,
ее дифференцированность, осознанность,
также инверсно соответствует
неразвитости противоположной
функции этой оси. Особо следует
подчеркнуть, что гипертрофированная
развитость доминирующей функции
вовсе не означает отсутствия
подчиненной. Термин "неразвитость"
здесь можно употребить исключительно
в отношении осознанности, структурированности,
дифференцированности. Подчиненная
функция не менее сильна, чем
доминирующая, но будучи слабо
осознаваемой, она в полную силу
действует лишь в области бессознательного,
проявляясь в поведении в своих
самым архаичных и инфантильных
формах. На самом деле схема
еще сложнее, так как кроме психологических
функций в ней необходимо учитывать
также тип установки. Введя его
вкачестве третьей оси, мы получим
шестимерную прямоугольную систему
координат (рис.2) с двумя радиус-векторами.
Принципиально это ничего не
меняет.
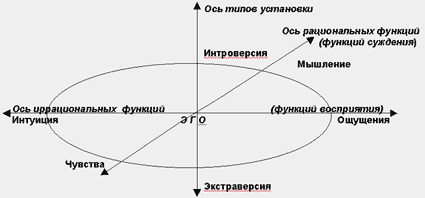
Рисунок 2. Психологические функции
в шестимерной прямоугольной
системе координат.
Первую половину жизни человек,
по Юнгу, совершенствует свою
адаптивность к реальности, развивая
доминирующие функции и доминирующую
установку. Но достигнув пика
середины жизни он начинает понимать,
что его цели, принципы, ценности
довольно мелочны. Либидо, снятое
с отвергнутых объектов, не может
быть сублимировано и попадает
в область бессознательного,
активизируя первичные психические
процессы. Этот период называется
кризисом середины жизни. Излишки
либидо в бессознательном запускают
работу Самости, которая стремится
гармонизировать установки и
психологические функции человека.
А гармонизация - это и есть
увеличение осознавания подчиненных
функций, введение прежде бессознательного
в сферу осознания, т.е. рассматриваемое
нами расширение сознания. Этот
бессознательный процесс сопровождается
продуцированием архетипических
сюжетов в фантазиях и сновидениях,
выстраиванием все того же мономифа.
И это естественно, ведь как
мы говорили, подчиненные функции
в первой половине жизни остаются
неразвитыми, т.е. инфантильными
и архаичными.
Существует множество взглядов
на сущность процессов мифотворчества.
Как мы видели, по Юнгу трансформации,
генерирующие мифотворческие
процессы, начинаются или с кризиса
середины жизни, при гармонизации
психологических функций, или
в экстремальных ситуациях жестких
испытаний, таких как война.
Клаудио Наранхо считал, что
мономиф описывает духовный путь
к просветлению, который может
быть длиною в жизнь, и который
символически повторяет процесс
физического рождения, как он
описан в перинатальных матрицах
Станислава Гроффа. Отто Ранк
утверждал, что миф - это "символически
замаскированное удовлетворение
социально неприемлемых инстинктов",
постоянно обыгрывающее эдипальное
восстание против отца и фантазию
двух семей. По теории Карла
Абрахама, миф есть коллективный
аналог индивидуального сновидения,
пользующийся теми же приемами
и работающий преимущественно
с архаическими воспоминаниями
народа. Согласно Рональду Лэнгу
самый надежный путь расширения
сознания лежит через нисхождение
в шизофрению и ремиссию. Вопрос
о мифотворчестве при шизофрении
чрезвычайно интересен и может
увести нас очень далеко от нашей
темы; нам лучше пока его не
касаться. Сегодня мы будем следовать
уже изложенной точке зрения
Кэмпбелла, согласно которой
миф продуцируется в ответ на
необходимость изменения жизни
при отсутствии в обществе необходимых
ритуалов инициаций.
Таким образом, не очень корректно
описывать трансформацию как
экспансию сознания. Обновление,
изменение психики происходит
в бессознательном. То, что там
действует, для нас абсолютно
непостижимо; мы можем наблюдать
лишь проекции этих процессов
в сознании - архетипический
сюжет с архетипическими персонажами.
Сознание пассивно и зачарованно
наблюдает за развертыванием
мифа, его креативная функция
проявляется лишь во вторичной
обработке мифа, подобной вторичной
обработке сновидения. Но! Хотя
сознание практически не участвует
в созидающей игре мифотворчества,
именно оно должно сделать первый
шаг, запускающий всю эту игру.
Чтобы активизировать бессознательное,
сознание должно умереть, раствориться,
отказаться от себя. Это обычный
механизм всех религиозных и
эзотерических практик, таких
как ментальное безмолвие, остановка
внутреннего диалога и т.д.,
равно как и поэтического вдохновенья.
Мифический исход в потусторонний
мир и блуждание по волшебной
стране соответствует нисхождению
в бессознательное, а возврат
в свой мир - обретению нового,
более широкого сознания. Карта
мифического путешествия есть
проекция карты бессознательных
процессов трансформации. Эти
процессы для нас непознаваемы;
но зато схема странствий мифического
героя хорошо изучена многими
этнографами и психоаналитиками.
Поскольку сегодня мы рассматриваем
не фольклорный миф, а авторский
текст, не нивелированный многочисленными
устными пересказами, мы должны
применить к нему золотое правило
Джозефа Кэмпбелла. "Если
в конкретной волшебной сказке,
легенде, ритуале или мифе опускается
тот или иной базовый элемент
архетипической модели, он непременно,
так или иначе, останется подразумеваемым
- и даже сам факт такого опущения
может рассказать очень многое
об истории и патологии выбранного
примера".
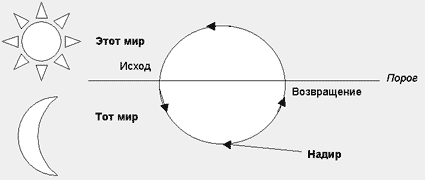
Рисунок 3. Схема универсального
мономифа по Кэмпбеллу.
Рассмотрим
теперь схему универсального
мономифа, разработанную Кэмпбеллом
(рис.3), чтобы выяснить, чего
же патологически не хватает
в "Сказке о царе Салтане…"
Миф начинается с того, что мир
героя подвергается опасности;
нехватка чего-то ставит его
на грань уничтожения. Тогда
герой слышит зов, призыв к путешествию.
Он может последовать зову, или
безуспешно попытаться уклониться
- это ничего не изменит. В любом
случае зов приведет его к первому
порогу. За порогом - другая
сторона мира, тот свет, иная
реальность. Пройти туда можно
или победив стража порога, или
погибнув в схватке (особенный
эффект достигается, если героя
при этом расчленяют), или дав
себя проглотить какому-нибудь
чудовищу, и в чреве кита переплыть
на ту сторону. Смерть у порога
соответствует растворению Я;
это позволяет активизировать
бессознательное, т.е. перейти
в чуждый магический мир. Перейдя
порог, герой попадает в центр
мира, где растет Древо жизни
и бьет неиссякаемый родник.
Здесь, на оси мироздания, герой
встречает помощника, проводника,
сталкера, который должен провести
его по миру иной реальности,
иной логики, иного времени.
Достаточно вспомнить, чем отличаются
первичные и вторичные психические
процессы, чтобы представить
себе глобальную чуждость того
и этого миров. Обретенный помощник
помогает герою победить дракона
и обрести волшебный эликсир
- то, что должно обновить и
спасти его реальный мир. Мы
понимаем под этим трансформацию,
обретение новых психических
качеств. После этого герой с
эликсиром должен вернуться в
свой мир и принести драгоценный
дар своему народу. Здесь и происходит
расширение сознания, интеграция
в него приобретенных качеств.
Такова схема вкратце: зов, сражение
со стражем порога, нисхождение
в иной мир, встреча с помощником,
победа над драконом, обретение
эликсира, возвращение. После
магического путешествия герой
спасает свой народ, правит им,
потом теряет доверие народа
и милость богов, и умирает таинственной
смертью. Круг замыкается. Вторая,
"надводная" часть
схемы не является обязательной.
В зависимости от характера эликсира
мифы делятся на героические
и религиозные. Герой религиозного
мифа, обычно рожденный непорочной
девой, в нижней точке своего
путешествия (надире) находит
Отца и воссоединяется с ним;
своему народу он приносит скрижали
с законами. Он правитель и наставник;
он дает правила жизни и правила
веры. Это Ликург, Солон, Заратустра,
Моисей, Иисус, Будда, Магомет
и им подобные. Герой-воин, в
отличие от героя-наставника,
несет не скипетр, а меч. Его
подвиг - освобождение невесты;
в нижней точке пути он вступает
в священный брак с Великой Матерью.
В душе он освобождает женское
начало и, кроме того, он дает
пример для подражания, некий
прецедент возможности осуществления
подвига. Героев этого типа несравненно
больше, чем религиозных учителей.
Такова вкратце схема универсального
мономифа, с которой мы будем
сравнивать "Сказку о царе
Салтане…" Но прежде мне
хотелось бы еще немного поговорить
о Пушкине, чтобы попытаться
выстроить тот ассоциативный
ряд, в котором мы будем воспринимать
пушкинский текст.
Сегодня нам трудно даже представить,
насколько мировоззрение той
эпохи отличалось от нашего мировоззрения;
мы абсолютно не готовы к такому
разговору. Но что для нас важнее
всего - это то, что люди тех
времен были ужасающе психоаналитичны.
Это цивилизованный ХХ век был
поставлен Фрейдом буквально
на уши; но любой дикарь всегда
понимал сексуальную символику
мифов и сновидений как нечто
само собой разумеющееся. Великий
предтеча Пушкина Иван Барков
писал за полтора века до Фрейда:
И
выпив залпом полбутылки,
Орлов неистов, пьян и груб,
Парик поправил на затылке
И вновь вонзил в царицу зуб.
Барков
бы, разумеется, не стал спрашивать,
почему вырывание зуба в сновидении
надо интерпретировать, как символическое
наказание за мастурбацию. И
Пушкин бы не стал, он сам был
проводником извечной темы фаллического
символизма. Сюжет его поэмы
"Царь Никита и сорок его
дочерей" очень прост. У
царя Никиты от разных жен родились
сорок прекрасных дочерей с одним
лишь недостатком - все они были
лишены вагин, т.е. совершенно
асексуальны. И царь, чтоб дочери
не комплексовали, решил полностью
оградить их от опасной информации
о сексе. Он издал
...такой приказ:
"если
кто-нибудь из вас
дочерей греху научит,
или мыслить их приучит,
или только намекнет,
что у них недостает,
иль двусмысленное скажет,
или кукиш им покажет,-
то - шутить я не привык -
бабам вырежу язык,
а мужчинам нечто хуже…"
Это только мы с вами до чтения
работ Фрейда не знали, что символизирует
кукиш или зуб, а у Пушкина с
этим все было в порядке. Казалось
бы, закон об обязательном образовании
дворянских детей был принят
еще в 1714 году, т.е. перед
Пушкиным было несколько образованных
поколений, но то ли в России
законы выполняются оригинально,
то ли символика уж очень неистребимая…
Вспомните, с каким восторгом
поколение спустя офицерство
бросилось перенимать моду у
совершенно дикого народа, более
того, у своих врагов - у черкесов.
И прижилась мода, цвела аж до
Гражданской войны, пока последних
ее апологетов не вырезали коммунисты.
В сентябре мы слегка коснулись
кавказской темы. Кинжал, который
так любил носить Лермонтов,
имел право делать лишь мужчина-горец,
зато ножны к нему могла делать
только женщина. Ножны, кстати,
- это дословный перевод латинского
слова vagina. Дикий народ -
дети гор - и обряды их архаичны,
т.е. таковы, что сексуальная
символика в них очевидна, лежит
на самой поверхности. А в наши
дни мы должны искуссно вытаскивать
ее из закодированных, искаженных
снов и фантазий, преодолевая
при этом отчаянное сопротивление
пациента. Символизм Пушкина,
соответственно, лежит где-то
посередине между этими крайностями.
Давайте исходить из этого. Пушкин
гораздо ближе нас стоял к истокам,
к архаике. Но творчество, как
и сновидение, само есть сильнейшая
регрессия, причем чем талантливее
- тем глубже, тем ближе к корням
мономифа. Таким образом Пушкин,
как человек и гениальный, и
стоявший куда ближе нас к примитивному
символизму, должен был на этом
пути попасть в совершенно немыслимую
глубь. Как и мы, он был воспитан
культурой, выросшей из кастрированно-прилизанной
версии греко-римской мифологии.
Архаикой для него должен был
быть уже ранний Египет - с его
божественным инцестом, фаллическими
матерями, богами со звериными
головами. Для Фрейда, кстати,
так оно и было.
Окунемся в атмосферу сказочной
пушкинской Руси. Первое, что
бросается в глаза - это "вода,
вода, кругом вода". И не
просто вода, а море - великий
истерон, древняя стихии маточных
околоплодных вод. У моря стоит
дуб зеленый, из него выходят
богатыри, около него тридцать
три года живут старик со старухой,
рядом с ним совершает свои подвиги
Балда. Особенно много моря в
"Сказке о царе Салтане…".
Но это же допетровская Русь,
земля бояр и столбовых дворянок,
страна, еще не начавшая прорубать
себе выходы к морям! Если в
русской сказке яйцо с кащеевой
смертью и падало случайно в
море, то его тут же приносила
оттуда типичная пресноводная
щука. И черти на Руси всегда
водились не в море, а в тихом
омуте какого-нибудь затхлого
болота. Море, архаичную стихию
Великой Матери, привнес в свои
сказки сам Пушкин. В его море
обитают страшные древние существа,
такие как чешуйчатый морской
змей о тридцати трех головах,
"в чешуе, как жар горя",
очевидно двоякодышащий, т.к.
ему "тяжек воздух … земли".
Змей, дракон - древнейший символ
вод бездны, еще с тех пор, как
Индра убил небесного змея Вритру,
хранящего в себе все воды мира.
В это море по логике сказочных
разборок злобный царь Салтан
бросил бочку с женой и сыном.
Сюжет, тысячекратно использованный
мифами всех народов, от корзинки
до ковчега. На древнееврейском
они даже обозначаются одним
и тем же словом. К.Абрахам считал,
что моряк относится к кораблю,
как к матери и жене. Как к матери
- потому, что корабль - это
ковчег, носящий семена жизни;
как к жене - потому, что моряк
свыкается с кораблем, перенося
на него либидо с отсутствующей
семьи. Раньше корабли (кроме
военных) носили женские имена
и украшались фигурами женщин.
Это еще одно символическое значение
мифического моря - великие околоплодные
воды, чудесное рождение. В финском
эпосе дочь воздуха Ильматар,
плавающая в море, забеременела
от ветра и носила ребенка во
чреве семь столетий - пока наконец
не была создана земля. И в рассматриваемом
нами сегодня мифе море рождает
героя - но не просто открывая
перед ним ворота символических
вагинальных путей, как мы привыкли
видеть, но куда более древним
и примитивным способом - отложив
на берег яйцо-бочку. Многие
герои мифов младенцами путешествовали
по праводам в корзине или ящике,
но всех легко доставали оттуда;
их символическое второе рождение
было вполне естественным. Почти
никому из них не приходилось
вылупляться, ломая скорлупу
изнутри, как князю Гвидону:
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Поднатужился немножко:
"Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?" - молвил
он,
Вышиб дно и вышел вон.
Тем
не менее, мы имеем хоть и архаичного,
но все же вполне типического
героя царского рода, который
младенцем плавал по водам в
ящике, успешно родился вторично
и, как и положено герою, рос
"не по дням, а по часам".
Это вариация хорошо знакомого
нам мономифа о герое; но есть
и настораживающие отличия. Младенец
плывет в своей бочке не один;
такое бывает очень редко и приводит
к не самым приятным последствиям.
В корыте были пущены в плаванье
по реке близнецы Ромул и Рем,
миф о рождении которых пропитан
древней фаллической символикой.
По легенде, изложенной Плутархом,
у альбанского царя Тархетия
"случилось во дворце чудо:
из средины очага поднялся мужской
член и оставался так несколько
дней". Оракул посоветовал
Тархетию соединить с ним дочь,
но та оскорбилась и не выполнила
приказ отца, послав вместо себя
рабыню. Тархетий, узнав об этом,
разгневался и велел бросить
в тюрьму и дочь, и рабыню; а
когда родились близнецы, велел
убить их. В тот раз братья спаслись,
уплыв в корыте, но впоследствии,
при основании Рима, Ромул убил
Рема. В мифологии известны и
случаи совместного плавания
младенца с матерью. С Данаей
плавал по темным водам Персей,
позднее убивший деда. С Авгой
(по версии Еврипида) плавал
Телеф; по другой версии в награду
за военные подвиги он получил
руку своей неузнанной матери.
Совместное плавание означает,
что эдипальный сюжет, инцест
и отцеубийство будут даны открытым
текстом, без всяких символических
затемнений. А это - свидетельство
более древнего сюжета, или в
терминологии Абрахама - нижнего
слоя мифа. И отцы, и дети в
этих мифах поступают отнюдь
не оригинально; все это мы встречали
и в волшебных сказках. Но если
в сказке можно как-то отстранить
отца, убить его чисто символически,
то древний миф в этом отношении
непреклонен. И не выпендривайтесь,
больной - раз доктор сказал
"в прозекторскую",
значит в прозекторскую.
Мне кажется, что наиболее близкой
аналогией к нашему сюжету является
совместное плавание в темных
околоплодных водах близнецов
Осириса и Исиды, которые познакомились
и совокупились еще во чреве
матери, небесной коровы Нут.
Совокупились в прямом смысле,
без всякой символики. В этой
странной семье было четыре ребенка,
составившие две семейные пары:
Сет - Нефтида и Осирис - Исида.
По одной из версий мифа Сет
стал преследовать Осириса за
то, что тот совсем зарвался
в своих инцестуозных влечениях
и переспал со второй сестрой,
женой Сета. В отместку Сет обманом
заманил Осириса в деревянный
саркофаг, заколотил его и пустил
по водам Нила. Саркофаг принесло
к берегу, где он застрял в ветвях
тамариска, а через некоторое
время врос внутрь его ствола,
из которого потом сделали колонну.
Исида нашла колонну и привезла
обратно в Египет, спрятав брата
в зарослях камыша. Но Сет отыскал
тело, расчленил его на тринадцать
частей и разбросал их. Исида
собрала их вместе, набальзамировала
и запеленала. Не хватало лишь
одной части - съеденного рыбой
фаллоса, который богиня заменила
деревянным фаллоиммитатором.
А затем, в облике соколицы Исида
села на труп мужа и зачала от
него Гора, сына-мстителя. Интересно,
что воскрес (т.е. вторично родился)
Осирис, как и Гвидон, вылупившись
из яйца.
Исида, превращающаяся то в соколицу,
то в самку коршуна, ведет нас
к богине материнства Мут, женщине
с головой коршуна, известной
нам по фрейдовскому эссе о Леонардо.
Иногда она сливалась с Исидой,
иногда изображалась самостоятельно
- с головой коршуна, с женской
грудью и с огромным эрегированным
фаллосом. В нашем мифе мы еще
встретимся с матерью-коршуном,
темной древней богиней.
Вернемся к морским скитаниям
князя Гвидона. Мы видим здесь
древнейший египетский сюжет,
но даже более архаичный - инцест
совершатся не с женой-сестрой,
а с женой-матерью. Инфантильное
влечение к матери нам хорошо
знакомо; а про египетский сюжет
мы можем сказать, что глубокие
регрессии порой выносят нас
не только к истокам, но и далеко
за пределы воспитавшей нас культуры.
Инцест с матерью, как и положено
божественному инцесту, дает
жизнь целому народу, городу
со всеми сословиями. Правда,
тут не обошлось без других матерей.
Первое, что делает князь на
острове - убивает злого коршуна,
чародея. Логично было бы предположить
здесь классическое эдипальное
отцеубийство; но не следует
забывать, что мы находимся в
пространстве архаичного мифа,
ближайшей аналогией которому
является древнеегипетская мифология.
Согласно ей, у коршунов нет
самцов, а самки зачинают от
ветра. Таким образом, в результате
параноидно-шизоидной защиты
образ матери расщепился на три
полюса: мать-жена, порождающая
целый народ, плохая мать - коршун,
и идеализированная мать - лебедь,
всемогущая и прекрасная.
Убив плохую мать, князь, как
известно, нарекся Гвидоном.
В культуре той эпохи это имя
могло перекликаться с именем
Гвидо, графа Гвидо Гверры из
"Божественной комедии"
Данте. Это седьмой круг, третий
пояс - насильники над естеством,
т.е. те, кто совершал половой
акт не так или не с теми, с
кем предписывала церковь. Гвидон,
как и Гвидо Гверра, несомненно,
относился к этим грешникам.
Другим созвучным именем обладал
герой древнего кельтского мифа,
великий бард Гвион Бах. Он попал
в жилище великанов на дне озера,
где Каридвен, жена великана
заставляла его целый год помешивать
жидкость в котле, в котором
готовился эликсир вдохновения.
Случайно Гвион проглотил этот
напиток и вынужден был бежать.
После гонки с перевоплощениями
Гвион обратился в птицу, и Каридвен
в образе соколицы настигла его.
Он успел превратиться в зерно,
и тут Каридвен, обернувшись
курицей, его проглотила. Но
через девять месяцев она родила
Гвиона Баха, положила в кожаную
сумку и бросила в море на милость
Бога. Гвион стал величайшим
бардом.
Имя царевны лебедь Пушкин мог
взять из прекрасно известной
ему "Повести временных
лет", где упоминается Лыбедь,
сестра Кия, Щека и Хорива, основавших
Киев. Собственно, больше о ней
ничего не известно, но этого
вполне достаточно; сестра -
ее главная социальная роль.
Пушкин гениально свел инфантильные
фантазии с древнейшими египетскими
мифами. Пусть, как говорил Расул
Гамзатов, "женщина женщиной
будет, и мать, и сестра, и жена"
- и все в одном флаконе, т.е.
в одной бочке. Не случайно образ
царевны Лебедь, сестры страшного
чешуйчатого двоякодышащего змея,
позднее взволновал художника,
дошедшего в своей регрессии
до психоза; до таких глубин,
откуда не возвращаются. В отличии,
например, от сказочных образов
Васнецова, таких уютных и безопасных,
сюжеты Врубеля - Пан, вызывающий
панический ужас, Демон, Гамлет,
Фауст - всегда надрывны и болезненны.
И лебедь, жена-сестра-мать,
жуткая фаллическая Мут - из
того же беспокоящего запретного
образного ряда. Как говорил
сам художник, демоническое -
основная тема его творчества.
Вряд ли Пушкин сознательно подбирал
здесь какие-то созвучные имена;
скорее это были неосознанно
всплывающие ассоциации. Мы пытаемся
сейчас воссоздать тот ассоциативный
ряд, т.к. мы имеем совершенно
иной набор созвучий. Наша мгновенная
реакция на Лебедя - это "упал
- отжался!"; но во лбу
генерала горит совсем не та
звезда. Надо отбросить информационный
мусор сиюминутности, и нашей,
и Пушкинской, чтобы вплотную
подойти к скрытой архетипической
символике этой фантастической
истории. Теперь, обладая минимальным
набором необходимого ассоциативного
ряда, мы можем непосредственно
перейти к рассмотрению мифа
о потустороннем путешествии
князя Гвидона.
Итак, в чреве бочки герой пересек
первый порог и достиг иного
мира, крутого острова - "он
лежал пустой равниной; рос на
нем дубок единый". Мы узнаем
пейзаж центра мира с одиноким
Древом жизни. Это древо познания
добра и зла райского сада; дерево,
под которым медитировал Будда;
и крест, на котором распяли
Христа. И это зеленый дуб Лукоморья,
знакомый нам по "Руслану
и Людмиле". Герой оказался
в Лукоморье, на оси мира, где
витязи выходят из вод, где "лес
и дол видений полны", где
чудеса и т.д. Внешне Древо жизни
- одиноко стоящее, раскидистое
и внушительное. Это внешнее
сходство и обмануло Пушкина,
да еще, может быть, сексуализация
латинского языка, где все деревья
обязательно женского рода. На
самом деле Древо жизни - это,
конечно, не дуб, а мировой ясень,
дерево мягкой породы, которое
при добывании огня трением играло
роль ступицы.
Где-то здесь, в центре мира,
герой должен встретить помощника,
который поведет его к опасностям
и победам. И князь действительно
встречает такого помощника в
образе лебедя. Но может быть
это и было ошибкой; может быть
истинным помощником должен был
стать убитый коршун? Может быть,
достаточно было прицелиться,
и он, как и прочие звери, тут
же предложил бы свои услуги?
Мы знаем, что облик помощника
обычно пугающий и отталкивающий.
Может быть, Гвидон напрасно
изначально отсек один из аспектов
Великой Матери? Тем не менее,
он делает свой выбор и идет
за лебедем, который помогает
ему совершать подвиги. Князь
плывет в мир Отца, сражается
там (как комар против человека)
с непомерно превосходящим противником,
побеждает его и возвращается
обратно. Но этот подвиг вывернут
наизнанку, т.к. миры перепутаны!
Не из отцовского мира сознания
он опускается в материнские
воды бессознательного, а наоборот
- из материнского мира он делает
рейды в отцовский! Оставаясь
в лоне материнского моря, он
доходит до нижней точки мифологемы,
до брака с Великой Матерью.
Гвидон вступает в брак, и на
этом история заканчивается.
Мы видим, что универсальный
цикл мономифа не завершен. Князь
оказался невозвращенцем; солнце
зашло и больше не вставало.
Это очень грустный конец истории,
хотя героя, конечно, можно понять.
В надире, нижней точке скитаний,
он обретает величайшую победу,
вплоть до обожествления. Он,
как мы знаем, погружен в бессознательное,
и нет таких слов, чтобы выразить,
как ему там хорошо. Блаженны
нищие духом, но безумные еще
блаженнее. Обычно герой выталкивается
обратно кризисом надира. Это
малопонятное явление, которое,
видимо, является следствием
неустойчивости экстаза слияния
с богом. Гвидон избежал этого
кризиса и сумел остаться в центре
мира, у Древа жизни, с женой
- Великой Матерью. Шаманы-лекари
должны постоянно спускаться
в царство мертвых, чтоб вернуть
душу каждого своего пациента;
они профессионалы нисхождений.
Поэты, в каком-то смысле, тоже.
Но герой, желающий спасти и
обновить свой мир, вернувшись,
должен без оглядки бежать от
бессознательного! Вы помните,
чем кончается миф об Одиссее?
Царь Итаки должен взять весло
на плечо и идти вглубь материка,
подальше от моря, пока встречный
прохожий не спросит, зачем он
несет на плече лопату. Только
в таком месте, где люди не знают
моря, он сможет жить. Рональд
Лэнг, гениальный психиатр, описывал
шизофрению, как мистический
путь, который прежде посвященные
проходили под руководством своих
духовных наставников. Он утверждал,
что шоковая терапия сбивает
идущего с пути, и он навсегда
остается плутать в лабиринтах
бессознательного. А мудрое руководство
врача, понимающего смысл и технику
пути, выведет пациента из кризиса
с расширенным сознанием. Но
дочь самого Лэнга заболела шизофренией,
и никто не смог вывести ее с
той стороны мира. Лэнг запил
и вскоре умер. История о невзошедшем
солнце всегда очень трагична.
Мы рассмотрели сегодня проекцию
вытесненных инфантильных переживаний
в линии волшебной сказки и проекцию
бессознательных процессов трансформации
в линии мифа. Может быть, наиболее
значительное различие между
этими жанрами заключается в
том, что сказка всегда работает
с вытесненными материалами,
а миф - еще и с теми, которые
никогда не вытеснялись, потому
что и близко не подходили к
порогу сознания. Миф всегда
содержит в себе волшебную сказку,
но не наоборот.
Я хотел бы закончить свое выступление
одним очень личным воспоминанием.
Лучший друг, который был у меня
в андеграунде, работал в охране
Эрмитажа и жил на Лиговке, напротив
четвертой психиатрической больницы.
Кстати, название "андеграунд"
прижилось практически мгновенно,
т.к. очень точно отражало существующую
ситуацию. Это действительно
был иной мир, куда нисходили
от совдеповской действительности.
Так вот, в какой-то момент мой
друг уволился с работы и начал
методично порывать все связи
с социумом, пока наконец не
оказался в этой самой больнице
напротив своего дома. Когда
я навещал его, он был или очень
заторможен, или вообще практически
отсутствовал. Но однажды он
попросил "Евгения Онегина",
и это меня обрадовало. В следующий
раз я принес книгу, но врач,
наблюдавший за свиданием из
другого конца коридора, тут
же подскочил к нам и буквально
выхватил ее из рук. Он посмотрел
на обложку и сказал что-то вроде:
"А, Пушкин. Это можно".
Я подумал тогда, что, наверно,
действительно есть тревожащие
тексты, которые не стоит приносить
в это учреждение, но уж Пушкин-то
точно не из их числа. А теперь
я не уверен в этом. Но как бы
то ни было, Мой друг тогда выкарабкался.
Вопреки и Пушкину, и шоковой
терапии, он до конца прошел
путь, описанный Лэнгом.
"С
меня при цифре тридцать семь
в момент слетает хмель"…
Может быть, кризис середины
жизни - это последний срок,
до которого могут дожить люди
подобного накала. Остальных,
как было сказано в названии
нашей темы, долечат. Царевну,
как учат нас сказки, мало завоевать.
Ее надо еще и разбудить, расколдовать,
снять лягушечью кожу - т.е.
перевести из одного состояния
в другое. А сказочный перевод
женщины в другое состояние -
это и есть слияние воедино двух
аспектов одного объекта, главный
подвиг юношеского пубертата.
Идеология гуманизма и терпимости
освобождает юношу от совершения
этого подвига. О чем говорить,
если она даже не считает себя
вправе навязать ему активную
мужскую роль! Как писал Иосиф
Бродский:
Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не ладим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
Нам смеяться стыдно и скушно
плакать.
…
Нам звезда в глазу, что слеза
в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,
бородавок на пальцах и прочей
мрази.
Подарите нам тюбик хорошей мази.
Современный
вариант сказки о царевне-лягушке
звучит так:
Задумал
Иван-царевич жениться. Натянул
тетиву, пустил стрелу в небо,
и пошел ее искать. Пришел на
болото и видит - сидит на кочке
огромная лягуха. И говорит она
ему человеческим голосом: "Возьми
меня, Иванушка, к себе домой,
там поцелуешь меня, и будет
у тебя жена-красавица".
"Домой-то я тебя возьму,
- отвечает Иван-царевич, - а
целовать не стану". "Но
почему, Иванушка?" "А
говорящая лягушка прикольнее".
Это
запретные сексуальные желания
надо переплавлять в единую генитальную
организацию либидо или, по крайней
мере, трансформировать и соединять
под приматом генитальности.
Но если удовлетворение частичных
влечений становится для человека
высшей целью и при этом допускается
обществом, то любое развитие
становится излишним бременем,
мешающим немедленному удовлетворению.
В декабре мы с вами говорили
об идеологии терпимости и о
том, к чему она неизбежно приведет
угасающее общество. На это накладывается
также отсутствие ритуалов перехода
при смене социального статуса;
в результате неуклонно растет
число взрослых, не переступивших
через свой инфантилизм. Тогда
лебедь так и останется лебедем,
а лягушка - лягушкой.
1.Н.Винер "Кибернетика
и общество", М., "ИЛ",
1958, стр. 125-126.
2.В.Ключевский "Евгений
Онегин и его предки" в
кн. "Исторические портреты",
М., 3."Правда", 1990,
стр.408-410.
4.А.Пушкин "Сказка о царе
Салтане…", с/ с в 3 т.,
М., 1985, т.1, стр. 610.
5.Там же, стр. 624.
6.Там же, стр. 622.
7.Д.Кэмпбелл "Герой с тысячью
лицами", Киев, "София",
1997, стр. 35.
8.И.Барков "Григорий Орлов",
CD.
9.А.Пушкин "Царь Никита
и сорок его дочерей", CD.
10.А.Пушкин "Сказка о царе
Салтане…", с/ с в 3 т.,
М., 1985, т.1, стр. 609.
11.Плутарх "Избранные жизнеописания"
в 2 т.,М., "Правда",
1990, т.1, стр. 56.
12.Там же, стр. 55.
13.З.Фрейд "Леонардо да
Винчи. Воспоминание детства"
в кн. "Психоаналитические
этюды", Минск, "Попурри",
1996, стр.387-391.
14.Данте Алигьери "Божественная
комедия", Минск, 1986,
стр. 79, 478.
15."Повесть временных лет"
в кн. "Повести древней
Руси", "Лениздат",
1983, стр.127.
16.И.Бродский "Песня невинности,
она же - опыта", с/ с в
3 т., СПб, "Пушкинский
фонд", 1994, т.2, стр.
305-306.
|